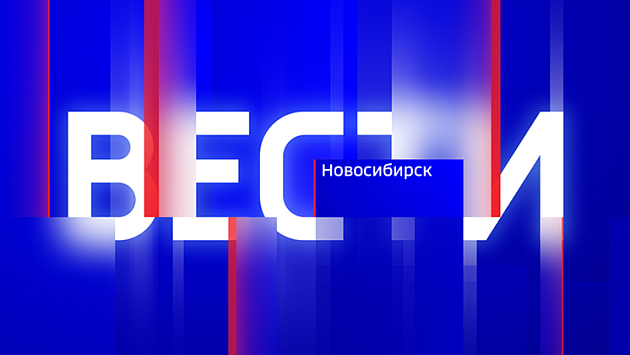На окраине Млечного пути
1.
Всё началось с Елены Медведской – ведущей программы «Коллекция» об искусстве – и с нашей с ней встречи. То есть, все началось еще раньше – с моего друга Лилии Галкиной, которая много лет работала на Новосибирской студии телевидения режиссером, и об этой встрече договорилась.
И вот на меня уже выписан пропуск, и я иду на телевидение. Помню, мне показалось удивительным, что телецентр спрятался в самом обычном районе среди совершенно неприметных домов. Но внутри началось чудо.
Медведская и монтажер Надя Миронова «доклеивали» театральный спектакль. Вокруг – стены из мерцающих экранов. Стеклянные перегородки. Полумрак. Чувство чего-то непонятного, недосягаемого, притягательного, радостного и тревожного.
Чуть позже со звукооператором Валерием Пугачевым мы сидим на главном пульте и слушаем Джо Дассена. Недавно закончился выпуск «Вестей», и на фоне бегущих лошадей из новостной заставки Дассен выглядит совершенно инопланетным. Но я вдруг понимаю, что, может быть, именно в этой затерянной посреди одинаковых сибирских кварталов штаб-квартире телецентра, в похожем на рубку космического корабля зале центрального пульта эта музыка из далекого и совсем другого мира уместна как нигде и никогда больше. Пугачев что-то вспоминает и улыбается, чуть прикрыв глаза... У него очень доброе лицо...
А на следующий день мне позвонила Медведская и сказала: «Давай сделаем программу об Иосифе Бродском».
2.
Медведская всегда была и остается для меня, прежде всего, леди: даже, казалось бы, совсем рутинные вещи у нее получалось делать так, словно это был какой-то аристократический церемониал. Перед первой съемкой мы с ней час проболтали об Ахматовой, а потом она рассказывала, как неделю работала в пражском Дворце Жофин. Ничего себе, думаю.
Именно в редакции Медведской я сделал первую очень смешную самостоятельную программу. После эфира к ней кто-то подошел: «Эта последняя передача... Она же просто уродливая»… «Уродливая, а наша», – ответила Медведская.
Я благодарен ей – за то, что именно она сумела перекинуть для меня «мостик» из университета на телевидение, за то, что вместе с ней мы втащили туда университетский чемодан, набитый свободой, чудесными иллюзиями, патетическими текстами, еврейской мудростью и списками персидских династий. И стали оживлять его содержимое на новом месте.
И всё время очень смеялись!
3.
Двумя моими самыми близкими людьми, с которыми я работал на студии больше всех, стали Петр Сиднев и Станислава Касаткина – Петя и Стася. Это мои родные оператор и режиссер.
Стася – необычайно талантливая, смелая и отчаянная. Когда мы с ней познакомились, она была в синем ситцевом платье и очень веселая. Мне кажется, что по характеру Стася остается какой-то выпущенной из своего счастливого и солнечного азербайджанского детства ракетой, которую до сих пор не могут сдержать никакие жизненные препятствия.
Мне страшно нравилось, что каждые съемки немедленно становились для нее «главной жизненной сверхзадачей», на которую бросались все силы. Сразу было понятно, что если Стасе нужно будет добраться до Сатурна на воздушном змее, то ровно в назначенное время она будет на Сатурне – если один путь к цели оказывался невозможным, другой находился через пару минут. Ей можно было позвонить в три ночи или в пять утра и совершенно спокойно обсуждать монтажные склейки. Именно Стася после моей первой программы сказала: «Тебе обязательно нужно этим заниматься».
Сиднева я сразу воспринял как волшебного героя из какой-то древнерусской сказки, который вдруг, неведомым образом, оказался в современном мире и теперь вынужден в нем жить, но жить необычно – почти за чертой города, в деревенском доме с палисадником и зелеными резными ставнями на окнах. А за домом – огород, цветы и вишневые деревья. Летом из вишни и малины Петя варит варенье, и всю зиму батареи этих банок стоят в погребе. А еще у него была исполинская собака-овчарка (действительно исполинская и, разумеется, волшебная – обычные собаки такими не вырастают).
У Пети есть тайна – все Петины кадры снимались и снимаются из его древнерусской сказки, как будто сквозь старое, преображающее всё совершенно иным цветом и светом, стекло времён Ивана Рублёва. Я много раз видел, как эти кадры магически действуют на людей из самых разных стран мира. Мне про это говорят и американцы, и немцы, и французы, и шведы.
Чтобы описать отношения внутри нашей группы, точнее всего использовать слово «нежность». Стася и Петя все время ворчали друг на друга, но в этом ворчании тоже была какая-то прекрасная беззащитность необыкновенно нежных людей.
У Стаси было несколько присказок: «Побежали, как дураки» (мы все время отстаивали какую-нибудь справедливость и обычно проигрывали) и «Бины едут снимать документальное кино» («Бины» – от британского «Мистера Бина»).
Наверное, тогда мне бы хотелось, чтобы мы приезжали на съемки величественно, но сейчас я понимаю, что наша чаплиновская трогательность, в общем, и была самым драгоценным. Мы даже в шапках ходили почти одинаковых – в ужасно смешных «гномских» шерстяных шапках.
При этом наша работа, вероятно, выглядела совсем не так, как должна была бы выглядеть работа на региональном телевидении.
Я помню длинный черный сверкающий «Кадиллак». Владелец согласился дать его нам на съемки «ради Сибири». Было смешно, когда мы подъехали на нем к администрации Колыванского района и остановились у памятника Ленину. У меня в глазах до сих пор стоит эстетский сидневский кадр: лимузин несется по шоссе сквозь сибирскую тайгу, оставляя позади сосны, мелькающие на фоне неба хвойного цвета.
А еще был настоящий воздушный шар. Его запустила Стася, полтора месяца выбивая ради этого мыслимые и немыслимые разрешения всех властей и инстанций. Он должен был взлетать в самом центре города, но другие воздухоплаватели, прознав про наше разрешение, днем раньше запустили оттуда другой воздушный шар. Мало того, ветром их потащило в сторону запрещенных для съемки объектов, и спецслужбы приказали им приземляться, а нам следующим утром вылет не разрешили. И тогда мы поехали за город и вопреки всему и всем поднялись в воздух.
Шар был зеленым, необъятно огромным, и плыл над окрестными деревнями. А мои Петя и Стася, которые снизу казались совсем маленькими, махали мне из корзины руками...
4.
Нашим редактором была Надежда Владимировна Двинянинова. Между собой мы звали её на американский манер – Дви. Это здорово отражало что-то быстрое, колкое, очень независимое и бесстрашное, что в ней было и есть. Я не знаю подробностей, но её бабушка была какой-то непокорной сибирской княжной.
Мы с Двиняниновой все время азартно спорили, но при этом она не запрещала нам, казалось бы, совершенно невозможные вещи.
А еще благодаря ей я побывал в прямом эфире. Эфирная студия казалась мне тогда древним сакральным пространством наподобие античного амфитеатра с мощной спрессованной энергией. Если театральная сцена помнит своих актеров, то телевизионная студия – своих ведущих, я верю в это. Если продолжать «космическую» тему, то выход в прямой эфир похож на выход в открытый космос. Ты словно оказываешься связан тысячами нитей с теми, к кому ты обращаешься, и с теми, кто говорил со зрителями из этой студии до тебя. Мне трудно описать это ощущение, но чувство умиротворения, которое дает прямой эфир, по-моему, заключается вовсе не в том, что тебя показали по телевизору, а в том, что ты и множество других людей вдруг оказались вместе и ты смог им что-то донести.
В студии было темно, но где-то наверху горело окно центрального пульта, и я знал, что там сейчас ведут меня через Эфир родные режиссеры Наташа Глазунова и Наташа Антонович – мой близкий друг и один из самых остроумных людей, которых я знаю. В конце выпуска хлынул ливень, и по крыше павильона (читай: по обшивке космического корабля) гулко забарабанили капли.
Чуть позже Двинянинова рассказывала, что после того эфира нашему главному редактору Светлане Войтович позвонили откуда-то «сверху» и сказали: «Да, Войтович... Ты – смелая женщина!»
5.
Параллельно я работал на новостную редакцию в программе ночных «Вестей», которые вел мой друг Витя Аверин. Он звал меня Пушкиным. Я помогал ему, записывая в каждый выпуск интервью, мы выпустили их под сотню. Не знаю, как Аверин меня столько вытерпел...
Как-то в очередной раз я привез интервью с немыслимо дерзкими оппозиционными мыслями.
Аверин (про героя, с восторгом): Он что, правда, так сказал?
Я (радостно): Именно так!
Аверин (смеется): Прикольно! И ты это взял?
Я: Ну конечно!
То, что я не шучу, и герой действительно так сказал, а я – это взял, Аверин понял за пять минут до эфира. Он влетел в монтажку за мгновения до начала выпуска, который, вообще-то, должен был вести, и единственное, что они с монтажером успели, – это отрезать последние минуты разговора, после чего Витя помчался на эфир.
Глубокой ночью я смотрю интервью и вижу, что половины беседы нет! Я в гневе звоню Аверину и нашему режиссеру Свете Каргиной. Телефоны молчат.
Я звоню Свете домой и начинаю кричать.
– Света! Где половина интервью?
– Какого интервью? – отвечает мне очень испуганный и сонный голос.
– Света! Перестань прикидываться! Что вы сделали с интервью?!
Голос (совсем жалобно): – Я мама! Я Светина мама!
Однако цензурировали меня всего пару раз, и мы смогли сказать в сотни раз больше, чем не смогли.
6.
Экипаж нашей «космической станции» включал в себя массу «коллекционных» людей. Совсем своим человеком был для нас водитель Витя Картавых. Без него наши с Петей и Стасей съемки были бы совсем другими. Он, необычайно добрый, всегда веселил нас и помогал таскать все тяжести.
Я помню огромное старинное зеркало в резной деревянной раме – оно было совершенно неподъемное, но мы с Витей героически носили его по сумеречному лесу, чтобы сделать суперкадр.
Помню его вечное добродушное: «Стася, девочка...»
Своих вообще было очень много.
Звукорежиссер Толя Гревцов, соавтор множества наших программ, сказавший однажды замечательную фразу в ответ на вопрос «Что вы сейчас делаете?» (после десятой, кажется, переделки звука в фильме): «Мы напряженно работаем. А мы по-другому не умеем! И не хотим даже».
Зоя Игнатьевна, руководитель отдела производства, дававшая нам для съемок и выездов в два раза больше положенного.
Валентина Сибирякова, главный режиссер, снабжавшая нас кассетами, наверное, в три раза сверх нормы.
На разрыв прямой и честный оператор Целицкий, который мог снять набережную Оби так, будто это Манхэттен – облака у него выстраивались, как самые настоящие небоскребы вдоль Гудзона...
Оператор Караваев, очень теплый человек и настоящий джентльмен, он превращал каждую съемку в уточнённую церемонию.
Монтажер Дорохов, с которым мы треть времени работали, а две трети – умирали со смеху.
Светлана Яновна Тернер – фантастически одаренная режиссер и журналист с чертовски хорошим саркастическим чувством юмора. Это, конечно, самая любимая зрителями ведущая НСТ новой эры.
А еще директор студии Галим Якупов и заместитель директора Кашкалда. Знаменитая вахтер Раиса и заведующий постановочным цехом Федулов. Выдающийся диктор Борис Данилович Барышников, который уже не работал, но часто приходил на студию, и которого теперь нам всем очень не хватает. Пестова из отдела технического контроля.
Режиссер Таня Мартынова – по правилам мы должны были монтировать беседы для ночных «Вестей» полчаса, но ей как-то удавалось сдерживать натиск авторов следующих сюжетов, и мы монтировали по два часа интервью, посвященные, например, Ирану или музыке Альфреда Шнитке.
Конечно же, режиссер Юра Алейников. С ним было весело. Однажды мы долго делали одну программу. Ночью перед эфиром я вспомнил, что мы не записали очень острый и красивый текст. И вот в криминальной близости от времени эфира мы с невинными лицами выпросили уже приготовленную к трансляции кассету («проверить хронометраж») и как банда злоумышленников проникли в монтажную («забыли там бумаги с важным текстом»). Я до сих пор не понимаю, как мы все не испортили, но мы рискнули и кое-как, чуть не затерев другой звуковой канал с готовой музыкой, записали наш текст благодаря Юриным техническим познаниям. Я очень благодарен ему за это. А еще я многому научился у него в работе с музыкой.
У Юры в напарниках – талантливый сценарист Люба Иванова. Она как-то обронила фразу: «В Голливуде мы бы без работы не остались». Мне и сейчас очень жаль, что в Голливуде не знают Любиных текстов. Они бы там вполне пригодились.
А еще на студии было множество красавиц – совершенно прелестных леди, которые очень украшали мир!
7.
Все эти телевизионные люди и события становились единым живым живописным полотном, сплетаясь со сменой времен года и погружаясь в красоту мира. Я досконально помню все эти состояния, звуки, запахи, шорохи, паутинки, штрихи, оттенки.
И огромные оранжевые шуршащие под ногами осенние листья, которые навсегда оставались бессмертными в Петиных кадрах для фильма Нади Соколовой про Арнольда Каца... И ярко-желтые цветочные поля, в которых я на бегу запнулся о камеру, а та упала и развалилась на две части, и потом мы с Сидневым «перебинтовывали» её изолентой... И изумрудно-зеленое море, в которое во время съемок по скользкому илистому берегу случайно съехала Стася, а после, уже на студии, на недоуменные взгляды отвечала: «Подводные съемки...»
И голубиные стаи, и белых лошадей, и закулисье Оперного, и снег в ночи, и бьющуюся о стекло бабочку, которая никак не могла вырваться на волю... История с бабочкой была в Большом зале Консерватории. Мы увидели её только в кадре, когда приехали со съемок на студию. И тогда мы со Стасей и Петей позвонили ректору Консерватории и попросили пойти и спасти бабочку. И ведь он пошел!
Я помню всех своих героев. Академика Гольдина и его дочь Катю. И профессора Шатина. И семью Летягиных. И Леонида Соломоновича и Валентину Петровну Трусовых. И Курентзиса. Они от меня никогда никуда не уходят. Я часто ловлю себя на том, что говорю с их интонациями.
Одним из самых красивых ритуалов становился путь домой на машине-«дежурке». С ней мы объездили все окраины левого берега. Я никогда не был там до, и никогда не был после. Я вряд ли хотел бы оказаться там один в темное время суток, но теми ночами эти места казались мне волшебными.
Одна из наших первых удачных, на мой взгляд, программ называлась «На окраине Млечного пути». И я думаю, что это очень точно говорит о том, чем было для меня то время и Новосибирская студия телевидения – внутри стен телецентра можно было создавать параллельную художественную Вселенную, сотканную из совершенно несочетаемых вещей. В ней Новосибирск странным образом смешивался с Нью-Йорком, Флоренцией, Францией, Древней Грецией и совсем далекими звездными мирами, а в результате рождалось что-то особенное и ни на что не похожее.
В этом космосе одинаковые пятиэтажки, заснеженные дворы, холодные автобусы, стены серых домов и клены-сорняки спокойно жили рядом с Илиадой, рисунками Леонардо да Винчи, джазом, Бахом, Дон Кихотом, президентом Вацлавом Гавелом, венецианскими дворцами и еще тысячей вещей из прошлого, настоящего и будущего.
Наступил момент, когда мы поняли, что этот сплав может быть интересен не только нам.
Я очень хорошо помню наш первый международный фестиваль. Это была Москва, и мы выиграли. Уже вечером, после вручения, ко мне подошел чешский телевизионный и театральный режиссер Томаш Шимерда: «Я боялся, что они не почувствуют вашего Млечного пути. Я шел голосовать и был готов начинать за вас вОйну! Не войнУ, а именно вОйну!» И, торжествующе: «Но они сами все поняли...»
Через пару лет, уже на излете моего пребывания на ГТРК «Новосибирск», мы получили премию «ТЭФИ-регион» за лучший документальный фильм.
Наверное, с точки зрения карьеры, было бы правильнее начинать её в Москве или в Петербурге, но мне радостно, что несколько моих университетских и постуниверситетских лет были такими – на этой диковинной и прекрасной окраине.